
Публикации
О взаимоотношении православной и светской психологии
.jpg)
Доклад насельника Раифского монастыря иродиакона Кронида (Полежаева) во время круглого стола с православными психологами
Где как не в монастыре более всего органично говорить о психологии и о душе. Монастырь – это исследовательская лаборатория, в которой главный объект изучения – внутренний мир человека. Монастырь – духовная клиника, где врачуется и исцеляется больная мятущаяся человеческая душа. По крайней мере, в монастыре для этого есть все подходящие средства. Великий монах и древний психотерапевт преподобный Макарий Египетский говорил, что на всем белом свете он не видел ничего более чудесного и прекрасного, чем душа человеческая. Второе место, где еще с глубоким интересом говорят о душе, - это, конечно, университет.
Мне вспоминаются слова профессора психологии в МГУ Братуся Б. С. о том, как происходили первые встречи-семинары еще в 90-е г. в стенах МГУ, посвященные проблемам христианской психологии и антропологии. Под каким огромным впечатлением были тогда все участники этих семинаров. Невозможно было себе просто представить в советские годы такую картину: студенты, преподаватели МГУ, гости молодые, зрелые, пожилые, вместе со священниками расхаживают по университетским коридорам, ведут оживленную беседу, пьют чай, смеются, обмениваются своими идеями в дружеской атмосфере. Так нарождалась московская школа христианской психологии. Нечто подобное есть и в Санкт-Петербурге. Возникновение этих школ в Москве и Санкт-Петербурге – на наш взгляд, это знаковое событие, это свидетельство того, что хотя бы часть профессионального сообщества психологов остро чувствуют, что что-то с академической психологией не так. Что пора как-то иначе начинать вопрошать, возможно, менять парадигму, оживлять и одухотворять психологию, возвращать психологии ту душу, которую она потеряла, пытаясь в свое время во всем подражать естественнонаучному знанию.
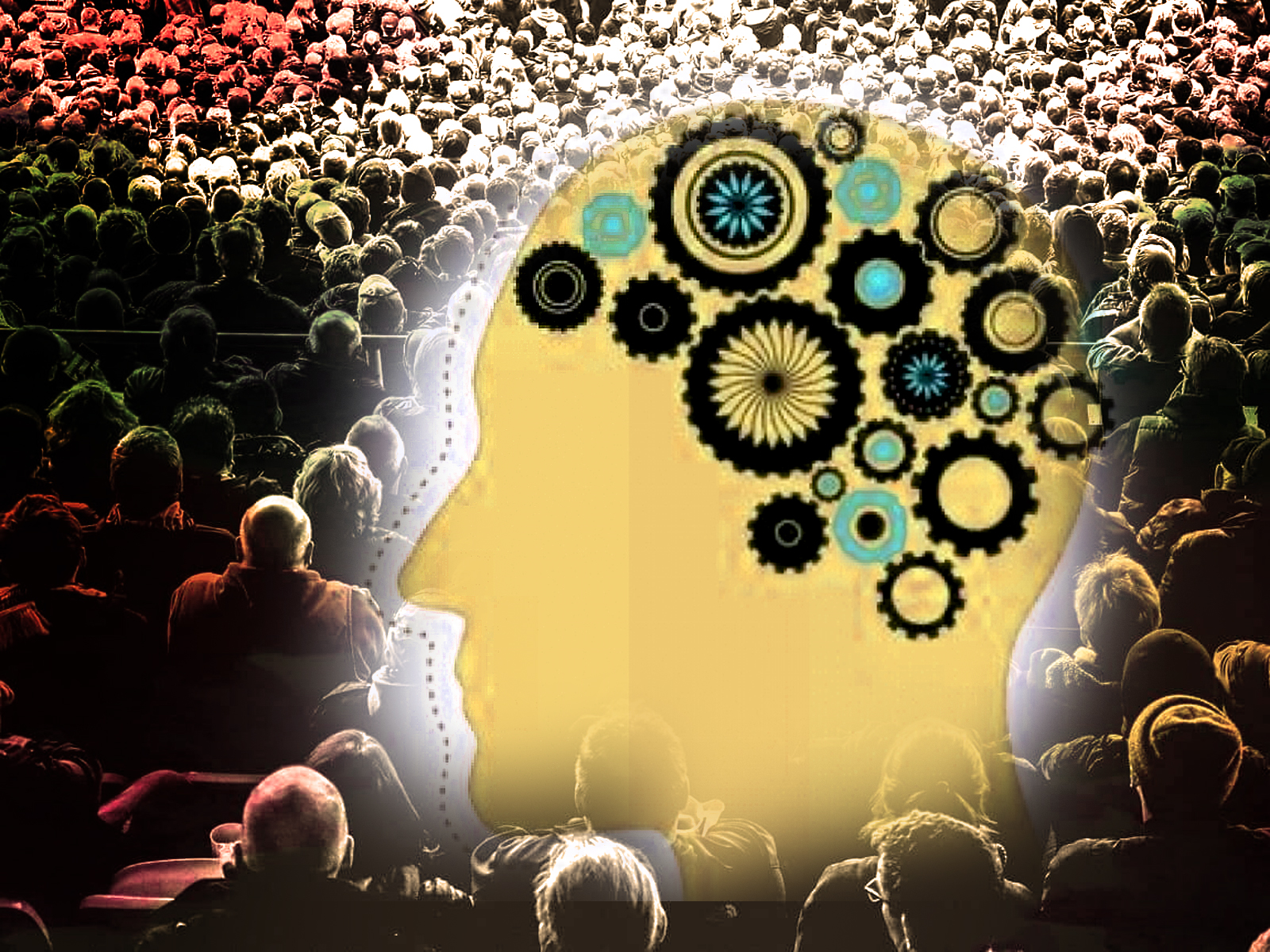
У историков психологии есть такое известное изречение: «у психологии есть длинное прошлое, и лишь короткая история». Это надо понимать так, что люди всегда интересовались психикой человека, его мыслями, чувствами и переживаниями, поведением, но как научная дисциплина, с ее строгими канонами и методологией, возникла она только в 70-е годы XIX века yа стыке двух дисциплин – физиологии и философии. Вильгельм Вундт считается отцом основателем научной психологии, поскольку именно он настоял на том, что психологию следует выделить в отдельную дисциплину, которая будет более эмпирической, чем философия, и более сконцентрированной на разуме человека, чем физиология.
Другой отец-основатель западной научной психологии Уильям Джеймс основывался на теории немецкого специалиста по нейроанатомии Франца Галля, утверждавшего, что мысли и когнитивные процессы носят исключительно биологический характер. Джеймс способствовал распространению материалистической идеи о том, что «Я» человека – со всеми его надеждами, любовью, желаниями и страхами – сосредоточенно в мягком сером веществе, спрятанном внутри человеческого черепа. Гипотезы о том, что мысли являются продуктом каких-то глубинных сфер, таких, как душа, по его мнению, относилась к миру метафизики. То есть мы видим, что с самого момента своего возникновения научная психология (за редким исключением) пошла по большому счету по пути элиминации глубинных душевных структур, либо игнорируя их вовсе, либо редуцируя их до физиологического уровня.
Известный американский философ-материалист ХХ века Пол Черчленд в свое время утверждал, что по мере развития научного понимания, «народная психология» (как он ее называл), то есть — бытовой способ мышления и выражения внутренней жизни в терминах представлений, желаний, намерений, суждений и т. п. — исчезнет, а на смену ей придут сугубо строгие концепции и описания, разработанные нейронаукой. Так в одной из своих работ он вот писал: «Эти люди не сидят на пляже, прислушиваясь к рокоту прибоя. Они сидят на пляже, прислушиваясь к колебаниям атмосферного давления, создающего энергию океанических волн, каковая перераспределяется в форме звука в хаотической турбулентности отмели… Они не любуются тем, как розовеет небо на западе в лучах закатного солнца. Они наблюдают смещение спектра солнечного излучения в сторону длинных волн, пока более короткие постепенно рассеиваются, по мере того как вращение Земли отдаляет нас от источника излучения».
.jpg)
Забавно! Что сказать! Вообще пытаться объяснять и изъяснить все многообразие этого мира, искусство, поэзию, душевную жизнь в человеке, его страдания, его взлеты и падения, радость, стремление к красоте, смыслу, любви в терминах физикализма и биохимии как-то даже курьезно и не эстетично. Это в свое время очень остроумно высмеивал знаменитый английский физик Тиндаль. С немалой долей юмора, он излагает терминологию материалистов в письме к своей будущей супруге, леди Гамильтон, под видом предложения вступить в брак: «Леди Гамильтон, сладкому, как сахар, конгломерату протоплазмы! Достойному обожания сочетанию материи и силы! Редчайшему продукту бесконечных времен развития! Лучезарный эфир не больше соответствует лучам света, чем мои нервные центры мистическому влиянию, истекающему из фотосферы твоего лица. Как солнечная система развивалась из первобытного хаоса, вследствие действия непреложных законов, так и та разрешенная материя, которую люди называют моею душою, возвышается из глубины своего отчаяния лучистым сиянием, стремящимся из твоих взоров. Спустись же вниз, о изумительное создание, чтобы наблюдать силу притяжения, которая влечет меня к тебе с могуществом, обратно пропорциональным квадрату расстояний. Согласись, чтобы мы, как два солнца, описывали друг около друга концентрические круги, которые могли бы соприкасаться во всех пунктах периферии. Твой Джон Тиндаль».
Об этих процессах раздушевления психологии очень хорошо в свое время писала замечательный психолог, профессор Тамара Александровна Флоренская, которая, кстати, тоже вместе с Братусем стояла у истоков московской школы христианской психологии. Она подчеркивала бедность современной «объективной» психологии: в учебниках по психологии нет главы о совести – сердцевине духовно-нравственной жизни души, а о любви упоминается вскользь, в главе об эмоциях. Между прочим, на такую абстрактную психологию ориентируется и педагогика. Внутренний мир души остается закрытым для такой психологии; это становится очевидным при сравнении ее «достижений» с такими старинными книгами, как «Добротолюбие», «Невидимая брань», «Лествица», в которых содержится богатейшая сокровищница знаний о жизни души и путях достижения внутреннего мира человека с Богом и самим собой. Современные психологи могли бы узнать из них все то, что входит в число содержательных «открытий» науки нашего времени, и еще много такого, до чего наука «объективная» дойти не может. Не лучше ли науке, подобно блудному сыну, вернуться в дом отчий? – вопрошала Флоренская.
У нее у самой очень поразительная личная история обращения к вере. В психологию ее привели поиски выхода из мятущегося состояния души. Она чувствовала, что так не должно быть, что в ней что-то неладно и наука психология должна ей как-то помочь. Так, по крайней мере, она верила. Но лекции и семинары по психологии в МГУ не касались ее глубинных душевных проблем: условные рефлексы, ощущения, восприятия, память, внимание, чувства – все это в отдельных главах, между которыми она не могла найти внутренней связи. «Психология» в переводе с греческого — «наука о душе». Но та психология, которую мы «проходили», – говорила она, – была явно наукой без души. Она старательно равнялась на естествознание, в котором видела образец научности, превращая человека в биохимического робота и механическую систему. Самой убедительной фразой для Ученого совета было: «психологический механизм такой-то...».

Я как-то на лекции у Асмолова А.Г., профессора психологии в МГУ, услышал такие ироничные слова о психологах: «Все можно проверить, измерить и взвесить. Лишь душу нельзя просчитать. Такое бессилие психологов бесит, и ночью мешает им спать». Вообще такой препарирующий измерительно-аналитический подход к человеку мне напоминает сюжет из «Маленького принца» Экзюпери: «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Вместо этого они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после всего этого они воображают, что узнали человека».
Но вернемся к удивительной жизни Флоренской.
Университетские занятия психологией, физиологией, политэкономией, марксистской философией и другими науками, включая «научный атеизм», отнимали много времени и буквально «забивали голову». Так что она уже начинала забывать о своем первоначальном стремлении найти в психологии ответы на мучившие ее проблемы и обрести с ее помощью мир души. Много времени отнимали и «общественные нагрузки». Одним словом, суета заедала. Наступили как-то летние каникулы, и она оказалась перед выбором: поехать ей с «агитбригадой» читать популярные лекции или заняться чтением серьезной литературы для просвещения собственной души. И вот ей снится удивительный сон.
Она в переполненном метро. Люди суетятся, куда-то спешат, и она с ними спешит, не зная куда. Толпа вносит ее в вагон поезда. Двери закрываются, поезд трогается, и она видит в окне огромную надпись: «Поезд следует до станции ЧЕПУХА». Глубоко возмутившись, она на полном ходу рывком открывает дверь и выскакивает из вагона. Вокруг тихо, спокойно. Перед ней источник чистой прохладной воды. Оборачивается и видит за собой бесконечную очередь...

Долгое время изучая и анализируя зарубежные теории «глубинной» психологии — психоанализа, аналитической психологии К.Г.Юнга, психосинтеза, гуманистической психологии, Флоренская не стала сторонницей ни одной из них. Фрейдовский психоанализ был ей скучен своей откровенной бездуховностью и беспросветной погруженностью в сексуальные проблемы. Она писала, что прошли те времена, когда «глубинному» психологу требовалось много времени и усилий для «раскрепощения» вытесненных из сознания постыдных влечений. Сегодня это «раскрепощение» достигло невиданных масштабов: из каналов массовой информации хлещут потоки нечистот. Но душевное здоровье человека и общества явно не улучшается. Во избежание массового удушья, очевидно, нужна экология не только окружающей среды, но и души человека. Джинн, вырвавшийся из бутылки, агрессивен; одержав верх, он делает человека одержимым. Вытесняется самое главное — святая святых души человека — голос совести.
Работая психологом-консультантом, Флоренская не раз убеждалась в этом. Подростки по «телефону доверия», не смущаясь, могли много говорить о своих сексуальных проблемах, но лишь в исключительных случаях сами поднимали духовные и нравственные проблемы. Эти проблемы нередко попутно обнаруживались в ходе беседы и оказывались наиболее серьезными и «глубинными». То есть именное духовное, или как выражался выдающийся психолог Виктор Франкл, ноэтическое измерение сегодня закрепощено и таится под спудом где-то в глубинах человеческой психики. Задача психотепапевта пробудить это духовное начало в человеке и направить его на путь исцеления и личностного роста. Правда, сам психотерапевт для этого должен быть пробужденным. Ибо сказано: «Врач, исцели себя сам!».
Флоренская смогла переформатировать свое отношение к психологии и остаться профессиональным психологом. Но психологом уже работающим в духовно-ориентированном подходе.
У нее судьба отчасти похожа на судьбу известного подвижника благочестия 20 века игумена Никона Воробьева. Это была глубокая натура. В отличие от многих, его еще с юности не увлекала обыденщина. Он искал смысла жизни. И это искание носило не отвлеченный философский характер, но исходило из самого сердца, захватывало всю его душу и требовало ответа на прямой вопрос: «Как жить?» В этом отношении он был очень похож на Ф.М. Достоевского, который говорил, что его осанна Христу через большое горнило сомнений прошла.
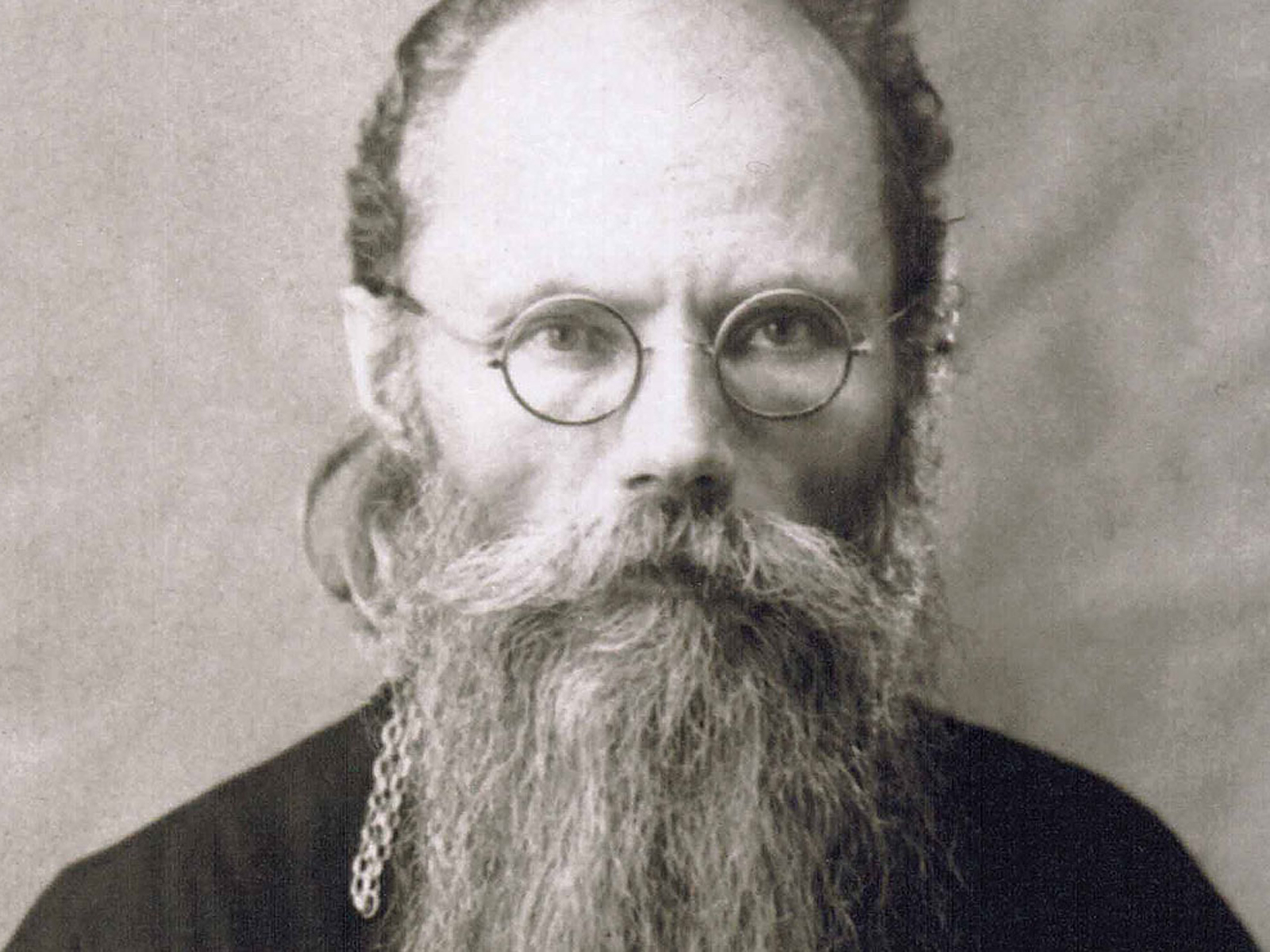
Поступив в реальное училище, он поначалу поверил атеистической пропаганде (которая широко развернулась в России после манифестов 1905 года Николая II о свободах, и в частности – всех вероисповеданий, кроме Православной Церкви), с жаждой ринулся в изучение наук, наивно полагая, что в них скрывается истина. Эта слепая вера в науку (сейчас мы бы это назвали сциентизмом) легко вытеснила у него столь же слепую в то время веру в Бога. Уже в старших классах он понял, что эмпирические науки проблемами бытия Бога, духовного мира, души вообще не занимаются, вопрос о смысле жизни человека в них не только не ставится, но и не вытекает из природы самих этих наук. Увидев это, он со всем пылом своей натуры углубился в изучение философии, в которой достиг столь больших познаний, что к нему иногда обращались даже его преподаватели.
Искание молодым человеком смысла жизни было столь велико, что часто, оставаясь, буквально, без куска хлеба, он на последние деньги покупал книги. Читать их он мог только ночью. Ночами изучал историю философии, читал классическую литературу – и все с одной целью, с одной мыслью: найти истину.
Но чем больше он приобретал знаний и становился взрослее, тем обостреннее чувствовал бессмысленность этой жизни, заключенной между рождением и неминуемой смертью. Смерть – удел всех, без исключения. А если так, то каков же смысл жизни, которая может оборваться в любой момент? Для себя жить не стоит, а для других? Все другие – такие же смертные, все без исключения рано или поздно становятся удобрениями для нарциссов, для них смысла жизни, следовательно, также нет. И зачем в таком случае живет человек, если ничто не спасает ни его, ни кого-либо от смерти? Наука и философия на этот вопрос ответа ему не дали. В конце жизни игумен Никон так говорил:
«Изучение философии показало, что каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их, философов, было? А истина одна. И душа стремилась к другому. Философия – это суррогат; все равно, что вместо хлеба давать жевать резину. Питайся этой резиной, но сыт будешь ли? Понял я, что как наука не дает ничего о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия».
В 1914 году, молодой человек блестяще оканчивает реальное училище, но выходит из него без радости.
Разуверившись и в науке, и в философии, он предпринимает еще одну попытку найти научный ответ на главный вопрос жизни: зачем я живу? Он поступает в Психоневрологический институт в Петрограде. Однако и здесь его постигло глубокое разочарование. «Я увидел: психология изучает вовсе не человека, а «кожу», – скорость процессов, апперцепции, память... Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня. И совершенно ясен стал вывод, что надо обратиться к религии».
Окончив первый курс, он вышел из института. Наступил окончательный духовный кризис. Борьба была столь тяжелой, что начала приходить мысль о самоубийстве.
И вот однажды летом 1915 года в Вышнем Волочке, когда молодой человек вдруг ощутил состояние полной безысходности, у него, как молния, промелькнула мысль о детских годах веры: а что, если действительно Бог существует? Должен же Он открыться? И вот, юноша, неверующий, из самой глубины своего существа, почти в отчаянии, воскликнул: «Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь земных, корыстных целей. Мне одно только надо: есть Ты или нет Тебя?» И… Господь открылся. Батюшка говорил:
«Невозможно передать то действие благодати, которое убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-то зажег. Юноша от всего сердца обратился к Богу со словами: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня – даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя».
Друзья мои, конечно, мы очень далеки от того, чтобы полагать, что научная психология вовсе не нужна, душепагубна и прочее и прочее. Я помню, когда сам еще обучался в университете, то начал читать замечательный фундаментальный труд по общей психологии выдающегося советского психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна. Я тогда был поражен глубиной, широтой охвата, богатством эмпирического материала, который приводил автор в своем труде. Сейчас уже задним числом скажу, что многие идеи, открытия, инсайты и интуиции Рубинштейна во многом согласуются с тем, что давным-давно открыто в православной духовно-антропологической традиции.

Теперь несколько слов о возможных моделях соотношения православной психологии и психологии секулярной.
Модели:
1.Модель полной изоляции верующего человека от богатого и многогранного психологического наследия, модель бескомпромиссной конфронтации Православия и психологии нам кажется не совсем оправданной. Чем-то она напоминает очень ригористический подход древнехристианского апологета Тертуллиана, который при своем религиозном обращении возненавидел всю мирскую философию и знания. Именно ему принадлежит известное высказывание: «Credo quia absurdum est» («Верую, потому что абсурдно»). Но надо отметить, что сугубый ригоризм Тертуллиана все же его отвел от Церкви Христовой, он, в конце концов, ушел в секту монтанистов. Отношение к многообразному светскому знанию у святых Отцов более терпимое, дифференцированное, что-то берется, что-то отметается, что-то пропускается через фильтр Богооткровенного гносиса. То есть в целом постулируется творческий подход к решению этого вопроса.
2.Но и, пожалуй, модель синтеза, слияния, которые в той или иной вариациях предлагают психологи из вышеупомянутых Московской и Питерской школ, на наш взгляд, также малоперспективна. Почему? Уж слишком много барьеров, водоразделов. Слишком разные у них онтологические, антропологические и аксиологические (ценностно-смысловые) основания. Можно фигурально выразиться так, что между православной психологией (то есть той психологией, про которую писал еще святитель Феофан Затворник, которая являет собой синтез некоторых элементов богословия, православной антропологии, аскетики, многовекового пастырского опыта душепопечения) и секулярной психологией пролегает огромное минное поле. С того и другого конца друг в друга пристально всматриваются, изучают, даже пытаются делать первые шажки в сторону друг друга, но пока поле не разминировано, это вовсе не безопасное движение как с одной, так и с другой стороны.
Эту мысль, может быть, удастся более четко раскрыть на примере длительного и порой неоднозначного исторического диалога между христианством и философией. Например, с одной стороны – Тертуллиан, человек прекрасно философски образованный, но после своего религиозного обращения радикально отказавшийся от философии и внешней мирской мудрости. С другой – мученик Иустин Философ после своего обращения в веру даже не снявший свой философский плащ, как символ принадлежности к тогдашней корпорации философов. Когда его спрашивали, почему он, будучи христианином, не отверг свое философское прошлое, он отвечал, что до веры во Христа он только казался и мнил себя философом, после же встречи со Христом, Божией Премудростью, он этим философом по-настоящему стал. Вообще спектр мнений по тому, каково соотношение христианства и философии простирается от признания подчиненного положения философии по отношению к вере и богословию («философия – служанка богословия». Такой подход больше характерен для средневекового римско-католического дискурса) до провозглашения христианства «пережитком прошлого», «опиумом для народа» и «мракобесием» (скажем, в рамках просвещенческой, позитивистской и марксистско-ленинской философии). Значительная часть философов занимала (и продолжает занимать) позицию своеобразного синкретизма. Она заключается в том, чтобы добиться «конвергенции», «синтеза», «слияния» философии и богословия в «единое знание». Справедливости ради следует сказать, что о таком «синтезе» говорили и святые отцы Церкви. Но речь идет не о механическом (эклектическом) соединении философии и богословия, а о развитии богословского видения мира с привлечением понятийного аппарата философии, углубленном изучении таких предметов, как природа, социум, человек. Такое соединение предполагает также привлечение логики (важной составной части философии) и перевод Божественного Откровения на понятный светским людям язык философии. По большому счету, речь идет о создании собственно христианской философии. Для христиан является очевидным тезис, что истиной в последней инстанции является Триипостасный Бог. В Евангелии Христос называется Истиной. Бог является человеку в Откровении. Он являлся Моисею, пророкам, апостолам, которые зафиксировали отдельные фрагменты Откровений в книгах Ветхого и Нового Заветов. Кроме того, индивидуальные Божественные Откровения были доступны и святым отцам, отразившим их в своих трудах, которые мы называем Священным Преданием. Все эти источники (Откровение и Предание) являются жестким каркасом богословия. Если так можно выразиться, это «кости», на которых уже может наращиваться «мясо» философского знания. А в целом это и будет христианская философия. Она может существовать в единственном варианте. Множества христианских философий быть не может. Христианская философия не лишает человека творчества. Христианский философ имеет возможность генерировать свежие идеи, которые будут наращивать «мясо». Но вместе с тем ему не позволено посягать на «костную» конструкцию. Подобного рода радикальные посягательства на костную конструкцию приводили зачастую к драматическим последствиям. Так, например, в истории Византии были прецеденты, когда некоторые философские идеи квалифицировались как ереси, а их авторы предавались Церковью анафеме. Это происходило в тех случаях, когда философы забывали о границах своей науки и пытались вторгнуться на территорию богословия.

Так, в 1082 году, в царствие Алексея I Комнина, был обвинен в ереси и предан анафеме влиятельный в Византии философ Иоанн Итал. Тяготение к античному рационализму спровоцировало прямой конфликт Итала с Церковью. С помощью философской мысли он предпринял попытку создать собственную богословскую систему. Итал был родом из Южной Италии, слушал лекции знаменитого философа Пселла в Константинополе, позже сменил его в качестве руководителя философской школы. Преподавательская работа Итала преимущественно была посвящена толкованию Аристотеля, Платона и неоплатоников. Учение Итала сводилось к платоновским идеям о предсуществовании, переселении душ (сегодня это называется реинкарнацией и метампсихозом) и творении мира из предвечной материи. До тех пор пока интерес к античной философии носил некий академический характер, он не вступал в конфликт с ортодоксальным богословием. Но Иоанн Итал рассматривал философию не только как учебную дисциплину, дающую знания о философских системах прошлого, и не только как методологический аппарат, используемый в богословии. Иоанн, казалось бы, будучи формально верующим человеком, считал философию наукой, абсолютно независимой от церковной догматики. Если Пселл применял методы логики преимущественно к философскому осмыслению феноменологического мира, то Итал распространил их на метафизические (теологические) проблемы. Его представления о разграничении сфер философии и богословия расходились с существующей традицией. Вере и духовному гносису Итал противопоставил рассудок (причем рассудок, пораженный грехом, как об этом учит православная ортодоксия), считая его надежным и основным источником знания и инструментом постижения истины. Конечно, и после осуждения Итала византийские интеллектуалы продолжали изучать и переписывать древних авторов, но анафема Иоанна Итала отразила позицию Византийской Церкви, официально отвергшей идею о возможности нового синтеза античной философии и христианства. В Синодике Недели Православия, ежегодно читаемым в первое воскресенье Великого поста, перечисляются анафематствования тех, кто последует «эллинским учениям», их «суетным мнениям» и приемлет «Платоновы идеи как истинные».
Но, несмотря на это, стоит отметить, что непроходимой «китайской стены» между богословием и философией нет. Образно говоря, богословие может заходить на ту территорию, которая является «королевством философии», а философия может заходить на территорию, принадлежащую «королевству богословия». Такое право каждая из этих двух «юрисдикций» получает по умолчанию, между ним и негласно заключена конвенция, легализующая свободную границу. Следовательно, стерильно чистого богословия и такой же философии в природе не существует. Хотя богословие (школьное, или академическое) формирует представления человека о мире на базе Откровения, язык этого Откровения должен быть понятен людям. Для перевода на привычный язык может использоваться логика (входящая в юрисдикцию королевства философии), понятийный аппарат философии, а в некоторых случаях – и отдельные элементы созданных философами теорий. Особенно такой «перевод» нужен для людей, только что переступивших порог Церкви и еще не развивших должного духовного зрения. И вдвойне он нужен тем людям, которые до этого успели изучить язык философии и привыкли им пользоваться. Это уже на следующей ступени (высшее богословие) можно обходиться без философских подпорок, а постигающему начальное (школьное) богословие они жизненно необходимы.
3.Так что в качестве рабочей модели взаимоотношения православной и светской психологии мы можем предложить уже более или менее апробированную временем вышеупомянутую модель взаимоотношения христианства и философии. Это модель живого, внимательного, вдумчивого и ответственного диалога. Мы всматриваемся друг в друга, общаемся, дискутируем, иногда, конечно, «рвем на головах волосы друг у друга», находим точки соприкосновения и точки расхождения. Например, одной из наших задач на сегодняшний день является творческий перевод на язык светской психологии каких-то ключевых идей и понятий православной антропологии. Важно раскрывать через только вырабатываемый категориально-понятийный аппарат глубину духовной жизни и богатство двухтысячелетней пастырской традиции душепопечения и прочее. В общем, как говорят, работы непочатый край.
Мои дорогие друзья, как говорил Стендаль, умение вести диалог – это талант. Из Евангелия мы знаем, что дурно зарывать таланты в землю. Лучше их раскрывать и реализовывать. Да поможет в этом нам всем Бог!
Иеродиакон Кронид (Полежаев)





